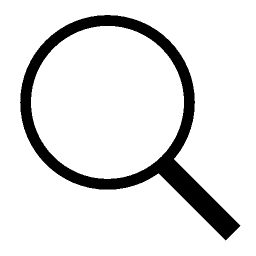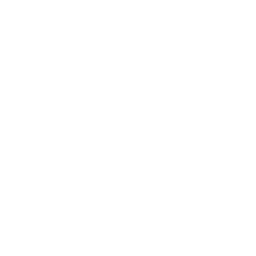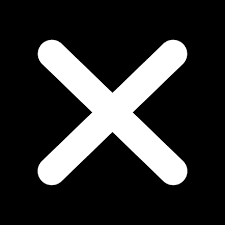Клуб «Инстанция». Вторая встреча. Выступление Александра Ветушинского
Я затрону достаточно тривиальный сюжет, быть может, самый тривиальный из тех, к которым мы можем обратиться, когда говорим о видеоиграх. Причем когда говорим о них не как о некотором культурном артефакте, как это делают какие-нибудь cultural studies, а как о некоторой метафизике. Почему журнал Game Studies показался мне не очень интересным? Конечно, это хороший журнал, он очень продуктивен, особенно с точки зрения показа того, как с видеоиграми работают в академии, как с видеоиграми работают признанные ученые. Дело просто в том, что меня расстроил тот факт, что там по сути нет никакой метафизики. Но к счастью, хотя в академической среде такие вопросы и не поднимаются, такие вопросы достаточно часто поднимаются философами-аутсайдерами по отношению к академической жизни, ну или на таких ресурсах, которые не имеют никакого отношения к академии. В большей степени я буду говорить как раз о таких работах. Хотя и академические статьи здесь тоже сыграли свою роль. Одна из таких статей и дала мне некоторую лазейку для того, чтобы говорить о том, о чем я собираюсь говорить. А говорить я собираюсь о том, что видеоигры могут сказать о Боге. По большому счету, все это имеет свои основания и в современной философской ситуации, связанной с такой проблемой, как постсекулярность. Но я не буду в это отдельно вдаваться, просто мне кажется, что видеоигры не могут не использоваться в качестве ресурса, когда мы сегодня об этом вообще говорим.
Есть такой дядечка – Джарон Ланьер (Jaron Lanier). Он написал достаточно любопытную статью в New York Times – рецензию на статью Ника Бострома (Nick Bostrom). Я не большой поклонник аналитической философии, но Бостром предложил достаточно интересную интерпретацию одной очень классической идеи. Мы уже не просто живем в иллюзии, мы живем в видеоигре, в которую, естественно, кто-то играет. А кто играет? Естественно, Бог. Бог играет, а мы персонажи, мы такие «симы» – у нас появляются семьи, мы ходим в университет и так далее. Это такой The Sims с огромной кучей приложений. В своей рецензии Джарон пишет, что ему часто приходят письма от различных читателей, и в одном письме – письме, которое написала явно очень обеспокоенная женщина – была просто чудесная формулировка: «Когда же наступит та точка, когда нельзя будет сказать, что виртуальная реальность виртуальна»? Ланьер здесь делает очень интересный ход. Он говорит, что в данном вопросе содержатся сразу две мысли. С одной стороны, это то, о чем мы говорим, когда говорим о геймификации, то есть когда мы воспринимаем нашу жизнь как некоторую игровую реальность, когда мы не можем отличить симуляцию от реальности. Это первая ситуация, связанная с этой точкой, после которой виртуальную реальность мы не можем называть виртуальной, когда мы не можем отличить симуляцию от некоторого подлинного опыта. Но есть и вторая – когда сама симуляция становится реальной, когда сами симуляционные объекты начинают обладать сознанием, становятся субъектами. В режиме аналитической философии это имеет очень важный смысл и тому же Бострому важно показать, что мы, будучи персонажами игры, можем обладать сознанием. И хотя это завязано на том, что могут быть компьютеры величиной с целую планету, которые обеспечивают возможность замены мозга различными силиконовыми препаратами, эту сторону вопроса я затрагивать не буду.
Меня интересует ситуация геймификации, то есть ситуация, когда мы можем описывать наш мир в качестве мира, дающего нам опыт именно игрового пространства, и при этом когда мы сами не столько играем – хотя и можем в том числе играть – но когда кто-то играет нами. Поэтому меня очень зацепил сам термин god games, который связан с такими играми, как SimCity или The Sims. Но я считаю, что практически любая game и есть god game. Например, недавно в обсуждении с коллегами остро встал такой вопрос: насколько человек, который играет в игру, предполагается самой игрой? Насколько игра учитывает его не только как игрока, но и как человека? Может ли игра вообще дать опыт нечеловеческого? По большому счету, здесь сразу появляется куча сомнений. И в то же время очень хочется сказать, что да, она дает нам опыт нечеловеческого. Взять тот же самый Tetris, ну или Bounce – модная в эпоху первых цветных телефонов игрушка про мячик, явным образом не обладающий сознанием – или, например, Flower – игра, где нужно управлять ветром, который несет листья деревьев. Казалось бы, разве предполагает это все человека, который в эти игры играет? Вопрос, в принципе, открытый. Но если не говорить о какой-то человекоразмерности того опыта, который дает видеоигра, принципиальной, как мне кажется, является некоторая теоразмерность этого опыта. Если игра не предполагает человека, то она предполагает некое божество, которое, собственно говоря, и играет, даже не столько играет, а исполняет некоторую обязанность. Мне вот кажется очень существенным, что когда ты играешь, ты не просто что-то строишь или производишь, не просто потребляешь и производишь, ты еще и нечто исполняешь. Это же некоторое долженствование – возвращаться к игре, пройти ее до конца просто потому, что ты не должен оставлять мир незаконченным. Ведь там есть персонажи, у них любовь, может быть, сложится завтра, а я их брошу и у них ничего не будет – это ведь нехорошо с моей стороны. И я как хороший бог делаю все для того, чтобы у них все сложилось.
Еще одна удивительная женщина – Лиэль Лейбовиц (Liel Leibovitz), которая пишет в еврейский журнал комментарии на Тору, а в свободное от этого время преподает видеоигры в университете Нью-Йорка, решила однажды совместить два своих занятия. То есть так вышло, что в один день она решила написать и комментарий на Тору, и что-нибудь о видеоиграх. В итоге, Лейбовиц написала о том, что видеоигры решают старую проблему соотношения свободы и необходимости. То есть то, над чем бьются философы – это вообще все ерунда, вы поиграйте в видеоигры и вы все поймете. Она разбирает достаточно старые игры и говорит, что, да, там есть алгоритмы, но если мы будем работать с этими алгоритмами, то мы увидим, что они предлагают хотя и конечный набор возможных сценариев, но при этом колоссально большой. И если в старых играх таких сценариев было, допустим, десяток, ну или – в лучшем случае – сотня, то в современных играх число таких заложенных в программу сценариев дошло до миллионов. Есть миллионы сценариев, которые я могу реализовать в реальной жизни, которые заложены в некотором виртуальном режиме, причем если реализуется какой-то один, нереализованными оказываются миллионы других. Сами же другие сценарии вполне укладываются в рамки лейбницеанской онтологии множества миров. Например, если я сегодня здесь, то в другом мире я не здесь, я болею или еще что-то там со мной происходит, а в каком-то мире меня вообще нет. Но все эти сценарии уже заложены в систему, разворачивается же какой-то один из них.
Чтобы понять как множатся миры, я приведу такой пример: миры множатся тогда, когда, боясь, например, пойти к боссу, мы на всякий случай делаем второе сохранение. Мол, я сейчас попробую, но и запасной вариант на всякий случай лучше сохранить. Эта возможность сохранять, возможность менять персонажа – она как раз и расслаивает мир. С одной стороны, у нас есть монолитный мир с какой-то историей, с какими-то персонажами, которые в мире живут, с другой стороны, мы можем эту же историю раздвоить, и в эту же игру можем играть и вдвоем, и втроем, и каждый из нас, игроков, может создать несколько разных ячеек загрузки. Одна реальность становится уже совершенно многоликой, при этом сами персонажи, которые там бегают, они об этом совершенно не знают. Потому что опыт в мире, принципиальный, например, для Хайдеггера, переживаю не я, когда играю, а персонаж, которым я играю. Собственно, он в мире, а я не в мире, я являюсь кем-то, кто может ему, как тому, кто в мире, всего лишь помочь.
Поэтому мне и кажется, что многие наезды на этическую составляющую видеоигр являются высосанными из пальца. Извините, я вот такой бог, а вы мне подсунули игру, например, GTA, которая изначально предлагает такие правила, где единственный шанс остаться в живых – это убивать. Так чего вы от меня требуете? Моя задача сводится к тому, чтобы помогать персонажу, богом которого я являюсь. Он мне молится и я ему помогаю. В чем проблема? Игра сама навязывает мне какие-то правила. И если Лейбовиц говорит, что игра решает проблему свободу воли в рамках человеческого, что, да, есть некий божественный замысел, и этот божественный замысел может быть не один, а это все возможные пути развития… Ну опять же, как у Лейбница с его множеством миров. Я стою здесь и одновременно со мной стоят все мои потомки и все мои предки. Есть такая штука, с ней, например, Делез работает – это «Лейбниц и барокко», идея преформизма. Иными словами, формы предсуществуют, но это не такие формы, как у Платона – Идеи, которые только реализуются в вещах – это такие формы, которых кроме как в вещах нигде больше нет. Все формы уже во мне. Но какая из них будет реализована решает вовсе не Бог, который все эти программы разве что озирает. Вот когда я играю в игру, я прекрасно знаю, что у меня, например, 16 способностей, 10 миссий, еще карта со слепыми пятнами, которые я могу исследовать. Я, как и Бог, все это озираю. При этом моя свобода оказывается небеспредельной. И это мне кажется особенно важным в данном случае. Потому что видеоигры могут сказать нам не только нечто о свободе человека в мире, то есть о нас, если мы рассматриваем себя как персонажей игры, но и еще о том, что свобода того, кто над нами стоит, по большому счету, тоже ограниченна. И ограниченна она не только миром, который уже существует по некоторым законам, но ограничена она еще и тем, что можно назвать «событием».
Дело в том, что есть вещи, которые случаются и они являются необратимыми, и в которые я, будучи игроком, не могу вмешаться. Это реализуется в режиме cutscene, монтажных роликов. Вот я, например, играю, помогаю своему персонажу убить огромную армию врагов и вдруг, вместо того, чтобы я продолжал заниматься тем, чем занимался, начинается ролик. Моего персонажа хватают и забирают в тюрьму. Спрашивается: где я в этот момент был? Я был здесь, рядом, но при этом я не мог участвовать в том, что происходит. В видеоиграх подобные вещи реализуются в том числе в виде нарративов самих героев. Например, мне дают героя с каким-то прошлым. Допустим, мне говорят, что он должен освободить свою возлюбленную. И не мое дело решать – освобождать ее или не освобождать – я могу разве что согласиться ему помочь или не согласиться. Потому что это его выбор. Игрок, когда играет, принимает не все решения, которые принимает персонаж, за которого игрок ответственен.
Об этом в том числе говорит разработчик и дизайнер SimCity и The Sims Уилл Райт (Will Wright). Ему непонятна идея аватаров. Как можно сказать, что там бегаю я? Весь интерес видеоигры как раз и связан с тем, что там бегаю не я, с тем, что там бегает кто-то другой. В лучшем случае, я могу подумать, а что если бы я был на его месте? Но я никогда не стану на его место. И эта дистанция, это напряжение – именно они и создают интерес в видеоигре. Мне вообще кажется, что в некотором смысле этот закрытый в реальной жизни опыт Другого… Вот нам говорят, вы не знаете, что у Другого внутри, не знаете, что он переживает, потому что такие вещи приватны и так далее. Так в игре, как мне кажется, я, играя за кого-то, могу видеть его как бы наизнанку, это такой опыт, который является совершенно закрытым от меня здесь, в реальной жизни, но при этом открывается мне там, в видеоигре. И да, это некоторый привелигированный божественный опыт. Ну, я вижу, например, линейку здоровья и линейку магии… И это уже парадоксально, как я их вижу? Это то же самое, если бы философский спор строился бы так: вот выходят два философа, у них линейки жизни, и там аргументы… Суперкомбо! Эти линейки вижу я, но их не видит персонаж. И персонаж не знает о том, что я их вижу.
И есть еще такая классная штука, как меню. Причем не внешнее – new game, load game, – а как раз внутреннее. Когда я нажимаю, к примеру, кнопку select и передо мной предстает вся статистика моего персонажа: уровень, пройденные миссии, накопленные значки, авторитет в обществе… Вот я играю сейчас в Fallout и там просто прекрасная градация иерархий. Вот я сейчас, например, «последняя надежда человечества». Там нарисован такой Иисус Христос… В общем, мне нравится. К тому же, там парадоксальный набор субъективных характеристик, который им приписывается. Как они это делают? То есть они, с одной стороны, делают это, наверное, совершенно не заморачиваясь, с другой стороны, они говорят о человеке нечто большее, чем о нем вообще можно сказать. И это отдельная исследовательская задача.
Но там есть еще одна деталь, которая особенно для меня важна и которая позволяет мне снова вернуться к Лейбницу – это карта. У меня, как игрока, есть возможность вывернуть персонажа наизнанку и в нем – в нем самом – найти карту того мира, в котором он функционирует. Это и есть то, о чем говорит Лейбниц, когда монады, являясь совершенно замкнутыми в себе, содержат при этом каким-то образом картину того мира, в котором эти монады взаимодействует как с миром, так и друг с другом, не взаимодействуя ни с первым, ни со вторым. То есть нам навязывают такую точку зрения, что эта карта в нас каким-то образом действительно есть. Примерно как и в нашей жизни. Я, например, знаю, где мой дом, знаю, как туда доехать. Но если это была бы игра, то он бы сейчас не существовал. Он бы существовал лишь виртуально. И пока я бы туда добирался и он попадал бы в зону моего видения, он бы строился на моих глазах. По этому поводу очень удачно выразился Жижек… Этот образ все прекрасно знают, особенно по восьмибитным гонкам, когда идет трасса и препятствия появляются сразу готовыми, они появляются прямо перед нами, «из ничего». В принципе, в современных играх это так и осталось. Просто теперь есть несколько уровней: сначала силуэт, потом дом чуть более достроен, потом еще более, пока не окажется достроенным окончательно. Но при этом сама идея сохранилась. Так вот, Жижек сказал следующую вещь: а что если Бог видит мир именно так? У него есть, конечно, какой-то горизонт, в любых гонках всегда есть какие-то горы вдалеке. В общем, там есть горы, конец какой-то, закат, страшный суд, все хорошо. Но что будет перед этим – непонятно вообще. Что будут делать люди, персонажи – совершенно непонятно. Они только и делают, что производят перед Богом то камни, то знаки дорожные, заставляя его то влево повернуть, то вправо, то еще что-то сделать… То есть здесь есть некое взаимодействие между божественной инстанцией и человеческой, которое не позволяет рассматривать Бога в данном случае как некоторое Единое, как некоторый монолит, некоторый купол, который может все это покрыть. В данном случае все начинает выглядеть в режиме какой-то симметрии, двух множественностей.
Здесь я буду заканчивать. И закончу я на такой философской фразе. Однажды Бадью сказал: «Я атеист и это означает, что нет Единого». И я тут сразу начинаю чесать голову и думаю: «Да какой же ты атеист, ты философский атеист, атеист по отношению к определенной метафизической стратегии, против которой ты готов сейчас выступить». Но что если – и видеоигры об этом как раз и говорят – Бог является множественностью, такой же как человек? На этом я тогда и закончу.