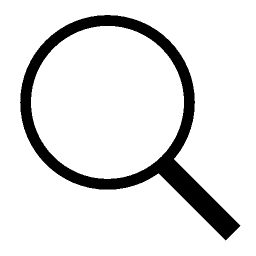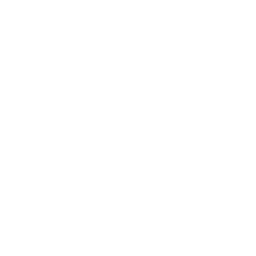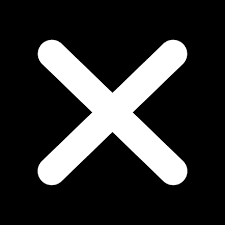Строительство апокалипсиса в отдельно взятой стране: эсхатологическая образность в постсоветских видеоиграх
Статья опубликована в журнале Ekrany в польском переводе. С разрешения редакции, здесь приводится оригинал статьи.
Цитирование: Podwalny, Maksym. (2017) Budowa apokalipsy w jednym kraju. Agnieszka Seweryn (Trans.), “EKRANy” 5(39)/2017, pp. 98-103.
В современных видеоиграх тема апокалипсиса даже популярнее, чем может показаться на первый взгляд, если мы воспользуемся широким определением: эсхатология может быть всемирной, а может быть и индивидуальной, а значит, конец света не обязан быть абсолютным ни в пространственном, ни во временном измерении. По существу, обязательным условием является лишь создание качественно иного социального пространства, смерть старого порядка и приход нового. Так, «глобальные» апокалипсисы случаются в сериях Fallout или The Last of Us, а «локальные» – в BioShock или S.T.A.L.K.E.R. Что же касается временного измерения, само название направления – постапокалиптика – говорит за себя: апокалипсис в художественном произведении – это никогда не конец всего, коль скоро после него появилось произведение, его описывающее. Но даже если история, лежащая в основе произведения, не показывает нам, что было после конца света («Метро»), а прерывается в момент его наступления («Мор. Утопия»), то само произведение в любом случае будет пост-апокалиптическим, так как представляет собой рефлексию апокалипсиса, что неизбежно помещает его после апокалипсиса если и не хронологически, то как минимум логически[1].
Данная статья посвящена анализу апокалиптической образности в видеоиграх постсоветских стран на примерах наиболее известных тайтлов: S.T.A.L.K.E.R., «Метро», «Мор. Утопия». Фигурально выражаясь, до начала ХХ века апокалиптические тропы в «Мор. Утопия» и, например, Fallout имеют 100% общих «предков». Расхождение их генеалогических древ начинается с Октябрьской революцией: в течение десятилетий по разные стороны железного занавеса постапокалиптика развивалась по-разному. После крушения СССР массовая культура бывших соцстран вновь слилась с евро-американским мейнстримом, отчего советская фантастика хоть и утратила монополию, но сохранила значительное влияние. Как следствие, постсоветская постапокалиптика гибридна – и это ярко проявляется в видеоиграх, что будет показано далее.
Апокалипсис, Революция, Утопия
Джеймс Бергер в своей работе After the End: Representations of Post-apocalypse предлагает троякое понимание Апокалипсиса:
- как конец мира;
- как конец конкретного жизненного уклада, социального порядка или способа мышления;
- как откровение, открытие, раскрытие тайного.
Пункт (2) не является ни секуляризованной версией (1), ни новшеством нашего времени. Уже в древних культурах конец света в первую очередь означал переворот социальных устоев, а не природных: рабы станут повелевать господами, жрецы примутся пахать землю, солдаты начнут руководить богослужениями – одним словом, кто был никем, тот станет всем – и наоборот[2]. Современные тексты массовой культуры, повествующие об апокалипсисе, стоят на тех же основаниях и по-прежнему грезят разрушением, во-первых, именно мира социального и созданием качественно иной реальности.
По мнению Бергера, мы не должны быть способны представить себе этот качественно иной мир, не должны иметь слов, чтобы описать его – настолько он инаков. И здесь уместно вспомнить, что, рассуждая о Революции в финале «Мифологий», Ролан Барт приписывал ей все те же свойства, что Бергер приписывает апокалипсису: Революция разрушит буржуазный миф и откроет правду о языке и нас самих, прежнему социальному порядку придёт конец, а главное, мы не в состоянии представить себе, что будет по ту сторону Революции, после конца старого порядка[3].
Но коль скоро апокалипсис и революция – это просто разные способы переустройства мира, то становятся очевидны и сходства между их (возможными) следствиями: постапокалипсисом и (анти)утопией. И действительно, антиутопия сопутствует апокалипсису, кажется, на протяжении уже более ста лет: так было в «Мы» Е. Замятина, так есть в «Голодных играх» С. Коллинз, – список более и менее значительных произведений может получиться очень долгим. Так к религиозной апологии апокалипсиса добавляется политическая: если раньше конца света ждали только праведники, надеявшиеся на лучшую жизнь по ту сторону, то теперь к ним присоединяются и те, кто желает построить более справедливое государство и общество в мире посюстороннем.
Относительно пункта (3) Бергер дает следующее пояснение: «Апокалиптическое событие, чтобы быть воистину апокалиптичным, должно в момент разрушения прояснить, озарить истинную природу того, чему только что пришел конец». Значит, и Откровение может пониматься отнюдь не только в религиозном смысле: апокалипсис может стать средством узнать «истину» о себе и мире, сокрытую за «шелухой» социальных норм и институтов. Социальное туманит наш взор, жизнь в Старом Мире полна лицемерия, ложных ценностей и целей, а апокалипсис якобы вернет нас обратно к природе, к естественности, к истине – и там-то мы и узнаем, кто чего стоит на самом деле – подобные анархо-примитивистские мечтания свойственны, например, Тайлеру Дёрдену из «Бойцовского клуба».
Нетрудно догадаться, что за любым из этих желаний может скрываться воля к власти: за делением людей на «праведных» и «неправедных», за стремлением к созданию новых форм государственности, за борьбой за переопределение понятий (что есть истина, что есть естественность и пр.). Желанность Апокалипсиса может порождаться ресентиментом, невыносимостью окружающего мира, собственной неспособностью изменить его и, как следствие, желанием разрушить его до основания, а затем строить новый, свой.
(Пост)советское и (пост)апокалиптическое
Двадцатое столетие полнилось грандиозными политическими проектами, и СССР сам по себе можно считать одним из самых одиозных. Для той части Земли, которую сегодня называют постсоветским пространством, минувший век стал не только веком революций, но и веком строительства (анти)утопий. Это обуславливает и популярность постапокалиптики в странах бывшего СССР, и региональную специфику жанра. Однако с художественной точки зрения советская постапокалиптика не представляет собой некоего абсолютно самобытного, эндемичного образования – не говоря уже о том, что она внутренне неоднородна. Именно поэтому здесь не будет попытки составить «портрет советской апокалиптики как таковой», но, скорее, мы просто выделим несколько характерных тенденций в ней.
1. Приоритет переживания над действием. Современному потребителю привычно наблюдать, как в мире постапокалипсиса герой вершит правосудие, сражается, строит и разрушает; в советской постапокалиптике мы зачастую оказываемся в ситуации, где всё уже случилось, и теперь герои рефлексируют над произошедшем, думают, как жить дальше – да и жить ли? Герои Мела Гибсона или Тома Харди в «Безумном Максе» сражаются на обломках старого мира. Герой Ролана Быкова из «Писем мертвого человека» на протяжении полутора часов рефлексирует по поводу места человека в мире, его предназначения, дальнейшей судьбе человечества. Хотя, безусловно, такой подход не был уникальным для советского кино: Аркадий Стругацкий отмечал, что тем же духом проникнут американский «На берегу». В этом же смысле «Пикник на обочине» Стругацких и «Сталкер» Тарковского разительно отличаются от основанной на них видеоигры.

Такие игры как S.T.A.L.K.E.R. и «Метро» следуют пути «экшна», который всегда был гораздо более популярен в игроиндустрии в целом. Отчасти не избежал этого влияния и «Мор»: как будет показано далее, в нём битва также является основным способом коммуникации между протагонистом и игровым миром.
2. Из-за цензуры в СССР апокалипсис всегда происходил в другой стране, зачастую – в стране, не придерживавшейся социалистического пути развития: апокалипсис случается как бы «не у нас», он почти всегда у Других. В упомянутых выше «Письмах…» нет ни одной надписи на кириллице и ни одного характерно славянского имени.
Cоздавая произведение без привязки к конкретным реальным локациям, людям и событиям, авторы делают его более самостоятельным, какой-то мере более интернациональным, менее подверженным влиянию времени, ведь все референты рано или поздно сотрутся из коллективной памяти, и отсылки потеряют силу. «Мор. Утопия» по большей части следует этому принципу, а вот антуражи «Метро» и S.T.A.L.K.E.R. – советская архитектура и техника, которые можно все еще в большом количестве встретить за пределами крупных городов России, Украины и Беларуси. Всё это, а также имена собственные позволяли создавать эстетику, вызывающую радость узнавания у «своих» и любопытство к экзотике у всех остальных.

3. Прямое следствие предыдущего пункта – совесткий апокалипсис чаще локален, чем глобален: армагеддон приходит к тем, кто сбился с истинного пути, и эти кто-то, разумеется, не «мы». Таковы т.н. «роман-предупреждение» и «фильм-предупреждение»: где-то на чужбине приходит конец обществу, так и не ставшему на истинный путь. Конец, таким образом, никогда не становится концом всего: локализованный в определенных пространственно-временных координатах, он лишь эпизод в истории человечества, чужие ошибки, на которых мы должны учиться.
4. Все вышесказанное закономерным образом обуславливает оптимизм финала: потеряно многое, но не всё, и надежда еще есть; главное – усвоить тот урок, что преподала нам разыгравшаяся трагедия.
Игра в конец света
Как и в любом другом направлении, в постапокалиптике есть свои характерные клише. Есть и тропы, характерные для апокалиптических видеоигр вообще и в частности для всех тех, которые рассматриваются в данной статье. «Протагонист – чужак в мире, где рушится Порядок; в перспективе от первого лица он сражается с бандитами, мутантами и зверями, избегает агрессивной внешней среды, а движет им идея спасения чего-либо или кого-либо», – этой фразой можно одновременно описать не только как будто не похожие друг на друга «Метро», «S.T.A.L.K.E.R.» и «Мор. Утопию», но и множество других постапокалиптических игр, что отнюдь не случайность. Не имея возможности глубоко погружаться в историю и подробно объяснять, почему именно те, а не иные приёмы стали доминантными в жанре, мы здесь лишь кратко охарактеризуем некоторые из них, чтобы составить общее представление.
1. Принцип двоемирия
Апокалипсис формирует пространства, свободные от общественных норм. Попадание туда дает индивиду почти абсолютную негативную свободу, т.е. максимально возможную степень невмешательства в его жизнь других людей. В «S.T.A.L.K.E.R.» таковым становится почти вся Чернобыльская Зона Отчуждения, в результате провала секретного научного эксперимента наполнившаяся радиацией, мутантами и сверхъестественными аномалиями. В «Метро» после ядерной катастрофы таковым стал весь или, как минимум, все регионы, о которых укрывшиеся в подземке москвичи имеют какую-то информацию. В «Море» такова степь за пределами Города, а также зачумленные жилища.
Было бы большой ошибкой полагать, что эти пространства прежде всего побуждают к агрессии и насилию. Главную роль здесь играет любознательность: скажем, среднестатистический житель европейского мегаполиса, возможно, хотел бы погулять по ракетной шахте, полистать секретные документы спецслужб, покататься на машине скорой помощи или поуправлять подъемным краном – причем не из корыстных побуждений, но сугубо из тяги к познанию. В обычных обстоятельствах, хоть все эти объекты и находятся в непосредственной близости, доступа к ним нет, причем на пути стоят именно социальные барьеры, которые и оказываются сняты апокалипсисом.
Но в большинстве постапокалиптических сеттингов помимо пространств негативной свободы мы встречаем их полные противоположности – нечто, похожее на то, что в «Мифологиях» Барта фигурирует под именем жюльверновского корабля: дом, убежище, безопасное пространство, которое противопоставляется неизвестному и агрессивному внешнему миру. Иными словами, «качественно новой реальности» апокалипсиса противопоставляется некий ковчег, где герои оказываются в полной или относительной безопасности засчет того, что на этом ковчеге работают правила прежнего, доапокалиптического мира. В «S.T.A.L.K.E.R.» таковыми ковчегами являются сталкерские поселения внутри Зоны Отчуждения, в «Метро» это обитаемые станции, а в «Мор.Утопии» мы наблюдаем ковчег в процессе его создания: по сути, мы на протяжении игры набираем для него экипаж.

Герои этих вселенных путешествуют между двумя пространствами: опасным пространством абсолютной свободы и пространством социальной нормы, где они ограничены в правах и стеснены в средствах, зато пребывают в полной безопасности. Так разрешается противоречие между свободой и безопасностью: социум защищает индивида, учит его, оказывает ему помощь и поддержку, но как только индивид начинает ощущать на себе давление социума, он может просто физически переместиться туда, где социум его не достанет, а при желании вернётся обратно.
2. Универсальный Другой и высокомерные Мы
Мутант, бандит, дикарь, религиозный фанатик или политический экстремист – универсальный Другой может являться нам в разных формах, но является он почти всегда. Универсальный Другой – дешевое сырье для возведения нарративных, эстетических и игромеханических конструкций. Если разработчик хочет дать игроку возможность получить ресурсы или попрактиковаться в стрельбе, то проще всего дать ему универсального Другого, к этико-прагматическим аспектам убийства которого возникнет минимум вопросов. Если чужедальний край нужно сделать незнакомым и таинственным, то его можно населить универсальными Другими. Если сюжету нужна движущая сила, то универсальный Другой отлично подойдет на роль антагониста.
Главный герой постапокалиптической игры – это почти всегда «человек извне», «попаданец». Он вне местных общественных структур, поэтому он якобы способен взирать на ситуацию «беспристрастно» и якобы объективно. Он смотрит на мир с «высокомерием точки отсчета», «hubris of the zero point», как называет это аргентинский исследователь постколониализма Walter D. Mignolo[4]; он считает себя нормой, с которой сличает всех отклоняющихся и вершит «объективный и справедливый» суд над ними. Таков Артём (главный герой) по отношению к большинству обитателей московского Метро: он «нормальный человек», а все остальные – Другие, носители «ненормальных» ценностей (бандиты, нацисты) или «ненормальных» геномов (мутанты, Черные). Но таковы же и герои «Мора» по отношению к диковатым степнякам, живущим архаичными традициями. Фюрер Четвертого Рейха из «Метро», с трибуны призывающий к войне, твириновая невеста из «Мора» – участница степного культа, своими танцами призывающая расти местную чудо-траву, – роли этих персонажей в конструировании игровой вселенной более схожи, чем может показаться.
3. Парк развлечений
Во многих работах, посвященных постапокалиптике, исследователи рассуждали о коммодификации, фетишизации, гламуризации апокалипсиса и утопии в современной массовой культуре, предлагали такие термины, как «диснеизация» и «диснеефикация»[5] для обозначения выхолащивания, симплификации сюжетов, эстетики, и, как следствие – снижении их художественной выразительности. Не имея возможности углубиться в их теоретические построения, отметим лишь, что заданная ими линия рассуждений вдохновляет метафору парка развлечений для характеристики типичного постапокалиптического мира. Такой мир оказывается наполнен фанерными муляжами философий, идеологий, религий и ценностей, которые предназначены для беглого просмотра, но не для вчитывания и глубокого анализа. Потемкинская деревня пробуждает у смотрящего воспоминания и ассоциации с деревенской жизнью, но жить в потемкинской деревне нельзя; аналогичным образом наспех собранные из самых закоснелых штампов религиозные секты и квазигосударства дарят игроку мимолетную радость узнавания, но зачастую не имеют критического потенциала.
Серия «Fallout» показала, что открытый мир – лучший пособник диснеефикации: если игрок хочет увидеть имитацию римской империи, нужно свернуть направо; если хочет увидеть отсылку к Бартертауну из «Безумного Макса 3» – налево. Так создается не целостный мир, живущий по собственным, внутренне согласованным и непротиворечивым законам, а именно парк с аттракционами, которые не имеют смысла существования помимо мимолетногоо развлечения игрока: они ждут, пока он придет и активирует их, чтобы на мгновение явить ему некий набор поверхностных высказываний и образов, а затем быстро заставить его отвлечься на что-то другое.
В «Метро-2033» и «Метро: Last Light» нам предлагается линейная экскурсия по экспозициям «типичные коммунисты-сталинисты», затем «типичные фашисты» и т.п. Так, коммуниста, который коварно предает спасшего его главного героя, зовут Павел Морозов, что делает его полным тезкой мифологизированного в советское время пионера-героя, донесшего на отца и деда и с тех пор ставшего в массовым сознании эталонным предателем, вторым Иудой. А сцена, в которой фюрер Рейха призывает к войне, воспроизводит широко известную сцену из «Триумфа воли» Лени Рифеншталь.

Однако «Last Light» не чужда самоирония: когда игрок достигает станции «Театральная», ему предлагается посмотреть представление местного театра-варьете, которое сделано нарочито убого. Театр в «Last Light» – одна из самых сильных сцен игры: если театр доапокалиптического прошлого (т.е. нашего настоящего) в некотором роде играл в реальную жизнь, то театр постапокалиптического мира играет в театр доапокалиптического мира, то есть театр изображает театр, каким он был в представлении тех, кто театр никогда не видел, – в то время как довоенный театральный критик просит милостыню у входа. Аналогичным образом местные коммунисты и нацисты своей вечной войной тоже лишь разыгрывают спектакль, в меру сил подражая былому противостоянию между СССР и Третьим Рейхом.

Мор. Утопия
Из предыдущих разделов можно было заключить, что постапокалипсис на постсоветском пространстве апеллирует к советскому наследию исключительно в эстетическом аспекте, в остальном придерживаясь мейнстримных и вполне заурядных лекал, – и по большей части это так. Поэтому в последнем разделе мы обратимся к игре, которая привычным для постапокалиптических игр принципам соответствует в куда меньшей степени.
«Мор. Утопия» – RPG с видом от первого лица, посвященная выживанию в охваченном эпидемией вымышленном городе; отдельные его признаки напоминают Россию 1910-х годов, однако ни название страны, ни имя правителя, ни название правящей партии, ни даже политический режим не раскрываются, всюду они обозначаются исключительно как Всемогущие Власти. В качестве главного героя игроку предлагаются на выбор три врачевателя: ученый-медик, знахарь-гаруспик и чудотворица, исцеляющая возложением рук – в образе одного из них нам предлагается исследовать город и его жителей, местные обычаи, политическое устройство и конфликты интересов и, в конце концов, прийти к Спасению.
Общий замысел как будто предполагает фокус на социальных и психологических аспектах переживания людьми надвигающейся катастрофы, но вскоре оказывается, что игровая механика этому препятствует. Игра разрабатывалась в начале 2000-х гг., поэтому авторы оказались в трудном положении, когда поставили перед собой задачу сделать апокалиптическую игру и выдержать её сюжет и общую атмосферу примерно в духе фильмов-предупреждений вроде «Писем…», в то время как все существовавшие на рынке архетипические игровые механики (перспектива от первого лица, шутер, поиск ингредиентов и крафт предметов, линейные параметры персонажа) были предназначены скорее для «Безумного Макса». Очевидно, что здесь задача примирения нарратива с геймплеем встает особенно остро, а в случае неудачи грозит обернуться диссонансом составных элементов произведения.
В «Море» примирения достичь не удается, отчего игра сражается сама с собой: так, главные герои, предположительно никогда прежде не направлявшие оружия на людей, могут охотиться на бандитов, чтобы обобрать трупы, или обкрадывать дома. Более того, по ряду причин экономика игры вынуждает игрока делать охоту за головами и мародерство основными источниками дохода – и очевидно, что оба этих ремесла подошли бы сталкерам, но не персонажам, которые в своей воинственности должны быть на уровне с главными героями «Чумы» А. Камю. Как это обычно и происходит, на многих фронтах механика одерживает верх над прочими уровнями игры: например, наличие боевой системы с необходимостью предполагает возможность её широкого применения, что заставляет создавать соответствующие сюжетные ходы и иные возможности для её реализации. Оказывают давление и каноны RPG/adventure: они не предполагают сложной системы выстраивания отношений между персонажами, их стандартный ход – личные квесты, которые зачастую малообоснованны. В игре вроде «S.T.A.L.K.E.R.» или «Метро» тот же прием создаёт куда меньший диссонанс, потому что гораздо проще органично вписать в повествование найм вооруженного громилы для решения поисковых или боевых задач, чем найм прибывшего из столицы доктора для улаживания семейных ссор.
Однако наибольший интерес для нас представляет финал, явно порывающий с открытостью и оптимизмом, свойственными как советской постапокалиптике, так и современному мейнстриму жанра в целом. В последний игровой день главные герои должны решить судьбу города, что в любом случае предполагает принесение в жертву одной его части во спасение другой – конкретно, в двух концовках из трёх часть города уничтожается артобстрелом. Но вопреки возможным ожиданиям здесь нет ни финальной битвы, ни слайдов, в которых игроку показали бы последствия принятых решений и судьбы героев после апокалипсиса. Вместо этого незадолго до заключительного диалога выясняется, что главные герои – куклы, которыми все это время играли дети в слепленном из песка городе, причем узнается это непосрественно от самих детей, которые обращаются к герою через диалог. Далее, один из персонажей обращается уже не к главному герою, но напрямую к игроку, говоря о себе как о полигональной модели, нарисованной на нашем экране.
Дети, играющие в песочнице, здесь понимаются двояко: во-перых, они и есть Всемогущие Власти, которые, подобно многим реальным власть предержащим, как будто живут в разных мирах с теми, кем управляют, и потому не относятся к миру управляемых всерьез, а подвластных считают своей игрушкой. Во-вторых, дети – это авторы, играющие с произведением, которые, с одной стороны, ограничены некими рамками (физическими свойствами песка, размером песочницы, ограничениями игрового движка или трендами видеоигрового рынка), но в остальном вольны распоряжаться сюжетом и персонажами, как хотят.

«Мор» наиболее последователен в своём изображении апокалипсиса именно созданием разрыва в финале: он уничтожает сначала четвертую стену фикционального мира, а затем четвертую стену самой игры, чтобы конец света стал таковым во всех возможных смыслах. Во-первых, заканчивается основной сюжет, а вместе с ним – прежняя жизнь безымянного города. Во-вторых, герой и игрок получают Откровение: в момент разрушения мира перед ними раскрывается суть вещей. В-третьих, произведение признается, что оно произведение, таким образом обозначая свою истинную конечность, что также в каком-то роде разрешает проблему отсутствия языка для описания постапокалиптического мира: чтобы доапокалиптическим языком (языком видеоигры) описать то, что будет по ту сторону (после конца игры), игра начинает говорить о себе как об игре, выходя за пределы самой себя.
Заключение
Обзорный характер данной статьи не позволял нам провести полный сравнительный анализ нескольких произведений и вынуждал сфокусироваться на нескольких наиболее интересных частностях. Важно отметить, что изложенные здесь теоретические положения изначально разрабатывались для других медиа и были использованы автором этого текста практически без поправок на специфику видеоигр. В частности, из-за этого остались нераскрытыми особенности перспективы от первого лица, те возможности и ограничения, которые она накладывает на содержание игры, её влияние на геймерский опыт. Не имея возможности раскрыть эту тему здесь, отметим лишь, что понятия ракурса, плана, поля, присваивающего взгляда и скопофилического удовольствия важны в теории видеоигр не менее, чем в теории кино. Не были в достаточной мере эксплицированы и процессы коммодификации: мы уподобили постапокалиптические миры диснейлендам, но не уделили внимания тому, как массовая культура оестествляет те или иные идеологемы общества потребления, выдавая их за норму (что особенно заметно в «Метро»). Всё это, а также учёт нераскрытого здесь гендерного аспекта могут послужить минимумом, достаточным для относительно компетентного прочтения и обстоятельного анализа постапокалиптических видеоигровых вселенных.
Примечания
[1] Berger, J. (1999). After the End: Representations of Post-apocalypse
[2] Носырев И. (2013) Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов
[3] Барт Р. (1957) Мифологии
[4] Mignolo, W. D. (2009) Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom
[5] Bryman, A. (2004). The Disneyization of society.
Источники
Литература
- Berger, J. (1999). After the End: Representations of Post-apocalypse
- Booker M. K., Thomas A.-M. (2009). The Science Fiction Handbook
- Bryman, A. (2004). The Disneyization of socie
- Schmid, U. (2013). Post-Apocalypse, Intermediality and Social Distrust in Russian Pop Culture
- Mignolo, W. D. (2009) Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom
- Барт Р. (1957) Мифологии
- Бодрийяр Ж. (1981). Симулякры и симуляция
- Носырев И. (2013) Мастера иллюзий. Как идеи превращают нас в рабов
Кинематограф
- «Сталкер» (реж. А. Тарковский, 1979)
- «Будет ласковый дождь» (реж. Н. Туляходжаев, 1984)
- «Письма мертвого человека» (реж. К. Лопушанский, 1986)
- «На берегу» (реж. С. Крамер, 1959)
- «Безумный Макс» (франшиза, реж. Дж. Миллер, 1979-2015)
Игры
- GSC Game World. (2007). S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля
- GSC Game World. (2008). S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо
- GSC Game World. (2009). S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти
- Ice-Pick Lodge. (2005). Мор. Утопия
- 4A Games. (2010). Метро-2033
- 4A Games. (2013). Метро: Луч Надежды
- Telltale Games. (2012-2013). The Walking Dead (series)
- Irrational Games. (2007). BioShock
- 2K Games. (2010). BioShock 2
- Irrational Games. (2013). BioShock Infinite